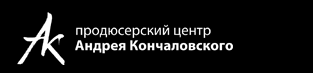Трепет струй и небо в стразах
«Дядя Ваня». А. П. Чехов.
Государственный академический театр им. Моссовета в рамках XXVI Международного фестиваля «Балтийский дом».
Постановка и сценография Андрея Кончаловского.
Один мой приятель-стихотворец сочинил недавно роскошную строчку: «Три сестры увидели небо в стразах». Упоительная звукопись. И к тому же краткая формула всей чеховской драматургии. Конечно, с поправкой на сегодняшнюю оптику. Лет пятьдесят назад эта формула звучала иначе: «Созрели вишни в саду у дяди Вани».
Вот и Андрей Кончаловский решил предъявить публике сразу всего Чехова. Но не в квинтэссенции, а целиком, да к тому же с развесистыми подробностями. «Сам Антон Павлович был крайне внимателен к мельчайшим деталям», — напоминает режиссер. Мир Чехова и впрямь устроен из мельчайших деталей. Это замечательно показал когда-то Александр Чудаков.
«Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад» ставились в Театре Моссовета с 2009-го по 2016 год. С переходящим составом исполнителей: полтора десятка актеров заняты в двух, а трое — во всех трех спектаклях. Иногда утверждают даже, что трилогия играется в одних и тех же декорациях, но это преувеличение. Декораций, собственно, никаких нет, только две занавесочки на заднике. Антураж в разных спектаклях все же разный, общий только невысокий подиум, в котором можно при желании увидеть подобие ринга. Но общая стилистика, несомненно, сохранена.
Стоит напомнить, что и в кино одной из первых работ Кончаловского был «Дядя Ваня» (1970): легендарный фильм со Смоктуновским, старшим Бондарчуком, Мирошниченко и Купченко. Вот и для XXVI фестиваля «Балтийский дом» история Ивана Петровича Войницкого стала прологом и камертоном.
Девиз нынешнего фестиваля «Балтийский дом» — «Театр по правилам и без». Спектакль Андрея Кончаловского — это театр по всем правилам. Можно сказать, эталонный чеховский театр. Разумеется, все с той же поправкой на нынешнюю оптику.
Тщательно построенные костюмы (Рустам Хамдамов). Летом — белые и кремовые, осенью — нежно-палевые, поздней осенью — болотно-бурые и черно-пестрые... И сапоги на докторе Астрове очень хороши: рыжие, мягкие, чуть ли не сафьяновые, но с брутальной победительною нотой. В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и обувь.
Иногда режиссер забавляется, выворачивая наизнанку знаменитый чеховский принцип долгоиграющего ружья. Например, во втором действии на сцене появляется пианино. Но на нем так никто и не сыграет — нельзя, профессор отдыхают... Лишь гитарные переборы раздаются за сценою: «Очаровательные глазки, очаровали вы меня».
Очень сочная, неторопливая, с паузами и ужимками актерская игра. Почти бенефисный принцип, тем более что в структуре пьесы такая возможность предусмотрена.
Все внимание достается доктору Астрову (Александр Домогаров). Провинциальный обольститель, маслена головушка. Потертый, полупьяный, но невыносимо обаятельный. Похоже, из поповичей: такие цветочные фамилии давались в семинариях. Эти разночинцы из поповичей — самая совестливая публика. Вот и Астров из таких: ленится к больным ездить, зато радеет о лесах и насаждениях. Провозвестник, можно сказать, экологического сознания.
В каждой пьесе Чехова есть какой-нибудь доктор, но здесь его особенно много. Кажется, Астров затмит здесь всех... Но нет, дядя Ваня еще востребует свою долю внимания, превратив третье и четвертое действия в серию скандалов, нервных срывов и неожиданных эскапад. В исполнении Павла Деревянко это натура крайне противоречивая, которую нельзя определить без оксюморона. Например: твердолобый, но мягкотелый. Или: нудный, но дотошный. Или: деятелен, но робок.
И брюзжит-то он беспрестанно, и интересы у него чисто прагматические: произрастание хлебов, произрастание грибов... Но, странное дело, мы ничуть не сомневаемся: это и есть образцовый чеховский интеллигент, самый прекрасный тип из выработанных русской действительностью.
Кончаловский делает очень простую вещь: по самым что ни на есть чеховским рецептам рассматривает человека подробно и пристально. Конечно, не без медицинского любопытства. Но гораздо важнее тут оттенок любования.
Вот профессор Серебряков. Вроде бы полное ничтожество. Но Александр Филиппенко обнаруживает в нем обаяние Большого Барина. Профессор простодушно уверен, что все мироздание должно вращаться вокруг его умственных привычек и физических хворей. И в этом своем самодовольстве он почти величествен.
Вот Елена Андреевна, молодая профессорша. Вроде бы сущая медуза. Но Наталия Вдовина показывает: и медуза может быть обольстительной, и вокруг нее может завертеться целый водоворот, Мальстрем уездного масштаба...
Кстати сказать, стихия воды в спектакле — самая важная. Действие крутится вокруг тазика с водой или графинчика очищенной. Дождь шумит в саду и портит сенокосы. Герои беспрестанно моются или бреются. Вот поэтому здесь так холодно и промозгло даже в африканскую жару.
Бенефис дурнушки Сони (Юлия Высоцкая) наступает в финале спектакля. Весь ее финальный монолог с небом в алмазах и «мы отдохнем, мы отдохнем» — это вообще сплошная истерика. Но тоже чеховская: невидимая миру, сдержанная и приличная, под сурдинку.
Кажется, Чехов — это единственный русский классик, у которого всех жалко. Всех до одного, без исключений. Разберись, кто прав, кто виноват, да обоих и пожалей.
Конечно, это все-таки не Малый театр: соло на пятнадцать минут для всякого народного, на пять минут — для всякого заслуженного... Чтобы переключить все в чеховский регистр, у режиссера есть свои приемы. Например, самые патетические места здесь обыкновенно проборматывают скороговоркой. А сцены соединяются с помощью легкой буффонады.
Здесь дерутся подносами, палят по цветочным горшкам и устраивают бумажный листопад. Случайные стычки превращаются в танцевальные па. Здесь моют втроем одну и ту же ногу. Ходят на четвереньках. Жонглируют новенькими штиблетами и манипулируют дырявыми носками... Ноги персонажей вообще живут какой-то отдельной жизнью: за ногу выволакивают из-под стола, две ноги обнимают третью... Иногда это почти балет.
Между прочим, пока нам рассказывают про небо в алмазах, на экране в виде комментария появляется поле в пеньках. А до того сцены дачной жизни обрамлялись видами нынешних городских автострад с их несносным шумом и ревом.
Послание недвусмысленное: жизнь медуз и неврастеников позапрошлого века была все-таки очень красивой. И напрасно они уповали, что через сто или двести лет все будет куда лучше и разумней устроено. И это единственная мораль, которая прочитывается в спектакле и которой нельзя вычитать у самого Чехова.